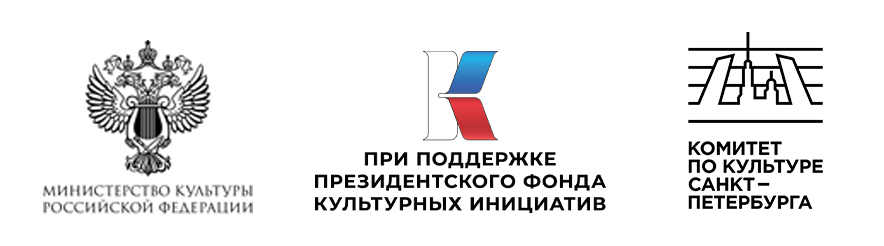Я совсем забыл и вдруг — когда балет был уже почти поставлен — вспомнил… Дело было весной 1999 года. Я учился на балетмейстерском отделении Академии Русского балета и зашел к своему педагогу профессору Игорю Дмитриевичу Бельскому. Он сидел за столом, перед ним лежала объемистая папка и книга о «Щелкунчике». Мы долго разговаривали о том о сем. Когда я собрался уходить, Игорь Дмитриевич протянул мне папку — в ней оказались его записи — и книгу. «Ключевая работа — “Щелкунчик”, — произнес он с нажимом и добавил. — Обязательно поставь сказку о принцессе Пирлипат». Это была наша последняя встреча. Через несколько месяцев Бельский умер.
«Щелкунчик» всегда сопровождал меня по жизни. В раннем детстве — в виде литературной сказки. А с девяти лет, когда я поступил в хореографическое училище, — и как ежегодный новогодний спектакль. Я прошел почти через все партии этого балета: дети на ёлке, мыши, паяц, арап, испанский танец, вальс, «четверка», был даже Королем мышей. «Щелкунчик» стал частью меня. И понятно, что, настроившись на новый спектакль, я держал в уме и всё то, что было некогда сочинено Василием Ивановичем Вайноненом.
У Вайнонена прекрасный спектакль — не надо думать, что мы ставим новый балет, потому что плох старый. Время требует от нас чего-то более сложного, с несколькими уровнями восприятия, и хореографически более насыщенного. Пермская труппа сегодня находится в такой форме, когда прозрачный детский спектакль ей и самой не очень интересен.
Да и, не скрою, мне всегда хотелось рассказать эту историю по-своему. Чайковский сочинил балет по заказу Всеволожского и на либретто Петипа, то есть писал его как музыку для танцев, служебную, а на деле вышла многомерная, неизгладимая симфоническая сюита — программная на бумаге, но в звучащей действительности выходящая далеко за пределы простого сценария. И мне хотелось найти ей подходящее воплощение в танце.
Мы придумали сказочно-философскую вещь, в которой царят Чайковский и Гофман, мерцают Петипа и Лев Иванов и в отдельные моменты проявляется Вайнонен. Мне было важно по-своему отдать дань уважения Василию Ивановичу, и я завуалировал в тексте несколько даже не то чтобы цитат из предыдущего спектакля — а пластических подобий, намеков, хореографически близких ощущений музыки.
Для меня «Щелкунчик» в первую очередь сказка о взрослении. И мне нравится определение, которое дал этой музыке Асафьев — «симфония о детстве на переломе»: «Когда сны влекут мысли и чувства вперед, а неосознанное — в жизнь только предчувствуемую». В этом деле очень важна роль игрушки как первого «тренажера» ребенка. В ней он видит одушевленное существо и на ней учится общаться с людьми. Часто дети ломают игрушки, но делают это из желания понять — увидеть, как те устроены изнутри. И вот чтобы то же самое потом не происходило с живыми людьми, нужно позволять ребенку экспериментировать.
В нашем спектакле Мари как раз тренируется. Она совершает непоправимую ошибку — но только во сне. Наученная горьким опытом, она уже совершенно по-другому ведет себя в реальности. И взрослеет. Почему, проснувшись, она не находит в кресле своего игрушечного Щелкунчика? Может быть, потому что свершилась магия. А может быть, потому что ей больше не нужна игрушка, а нужен друг.
Не надо далеко ходить, чтобы представить, какой город идеально подходит для этой истории. Конечно, Петербург. Город, где гофманская мистика и реальность взаимодополняемы. Город, где встретились Чайковский, Петипа и Иванов. Город, в котором родился Вайнонен и учился и взрослел я.
Трудно сказать наверняка, с каким смыслом Бельский произнес в нашу последнюю встречу: «Ключевая работа — “Щелкунчик”». Вероятно, он имел в виду себя. Но как знать, не было ли это его напутствием мне. В любом случае меня греет мысль, что судьбе оказалось угодно, чтобы я поставил этот спектакль, и я с благодарностью посвящаю его Игорю Дмитриевичу.